
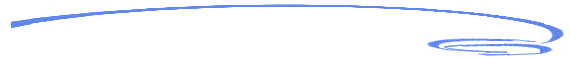
Память… Она волнуется, переливается и сверкает, как огромное, глубокое море. Что скрывается в глубине её – я и сама порой не знаю. Даже не могу предположить, что вдруг всплывет на поверхность и ослепит на мгновенье – радостью, болью, гордостью, сожалением. Какое воспоминание захлестнет мой маленький бесстрашный кораблик? К каким берегам прибьет его сегодня, завтра?
Это только на первый взгляд кажется, что моя жизнь бедна событиями. Это не так. Событий так много, что не хватит оставшегося времени их все записать, рассказать о каждом, – хотя бы для того, чтобы самой для себя осмыслить их. Волны, волны, вас так много и вы все такие разные, но ведь море – одно…
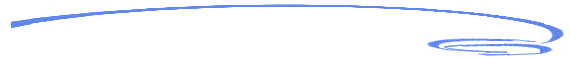
…На встрече нашего Литобъединения я в этот раз не была. Люба по телефону рассказала мне вкратце, о чем там шла речь. Среди прочего вдруг возник вопрос: кто автор строчки «Не бывает любви несчастной»? Пришли к тому, что, скорее всего – Людмила Татьяничева.
– Любочка, – сказала я. – Я знаю точно, что это – Борис Заходер.
И вдруг нахлынуло воспоминание, накрыло с головой и вынесло на далекий берег, и оставило там – и блеснул почти у горизонта парус моего маленького корабля, взмахнул языкастым флажком, обещая вернуться…
1978 год, я – совсем девочка, школьница, только-только шагнувшая в страну чувств под названием Любовь. Первые шаги по тропинкам этой великой страны. Мы выходим из кинотеатра «Балтика», на афише большими буквами написано название фильма: «В моей смерти прошу винить Клаву К.» Я останавливаю на ней взгляд, прокручивая в памяти фильм, который мы только что посмотрели. Там, среди сменяющих друг друга событий, сюжетных перипетий, музыкальных эпизодов, под фортепьяно прозвучали стихи:
Не бывает любви несчастной. Может быть она горькой и трудной…
А дальше? Не помню ни строчки. У меня вообще плохая память на стихи. Но запали эти слова в душу, глубоко и на всю жизнь. И вот у меня в руках очередной номер журнала «Советский Экран».
«Смотришь картину и нет-нет вспоминаешь иных скептиков, наделяющих чувства подростков снисходительными кавычками «детские», – пишет автор статьи, чье имя – увы! – смыли с берега памяти бесстрастные морские волны. – А они вровень взрослым: их любовь и заблуждения, их муки… В сюжет не заложена скорая свадьба. Тут вариант другой: он ее любит, она его – нет. Но как же разно подойдут оба к завершающему рубежу!
Старый-престарый расклад: знать не желает та, любимая, – любит другая. Не помышляющая о взаимности, чуткая душа, добрый и несчастливый друг.
Горько и тяжко тем, кто любит. И вдруг: «Не бывает любви несчастной!» Это строка из песни, которая потом пропоется за кадром:
Может быть она горькой, трудной, Безответной и безрассудной, Но несчастной любовь не бывает.
Потом пропоется. А сейчас Сергей отрешенно шагает по лезвию крутого обрыва. Шаг, еще один… Дома уже оставлена та страшная записка, что дала название фильму: «В моей смерти…» И вдруг вздох облегчения. Отвести от беды постараются друзья, чудесным образом оказавшиеся рядом. И дома тоже до срока сыщется припрятанная записка… Конкретная фабула фильма исчерпана, все стало на свои места. Но не могу забыть щемящий вскрик Сергея: «Что же мне делать?» Обычный наш ход – разные утешительные сентенции. Но вот и нехоженное – лаконичный ответ отца: «Страдать».
– А я не умею. – «Анну Каренину» проходили? «Гамлета»? Пушкина? Лермонтова? Чему они тебя научили? Страдать он, видите ли, не умеет!..»
Те, кто смотрел этот фильм, наверняка помнят впечатление, которое он оставил, то горячее, обжигающее чувство причастности к настоящей, большой любви. А мне он подарил еще и встречу с прекрасным стихотворением, строчки которого я собрала одну за другой, постепенно.
Не могу точно вспомнить, когда я узнала, что их автор – Борис Заходер. Наверное, его имя прозвучало в одной из тех передач, что были посвящены этому фильму. О нем тогда очень много говорили, спорили. В тетради, куда я записывала любимые стихотворения, записаны и эти строчки – разными чернилами, потому что писались по отдельности в разное время.
…Может быть она горькой, трудной, Безответной и безрассудной. Но несчастной любовь не бывает, Даже если она убивает. Тот, кто этого не усвоит. И несчастной, несчастной, несчастной Любви не стоит…
Так были спеты они в фильме.
Я искала книги Б. Заходера, мне хотелось прочесть это стихотворение на бумаге, посмотреть, как и какие расставлены в нем знаки препинания, окунуться с головой в его смысл. В моих поисках попался мне маленький сборник стихов Ю. Друниной, – я заинтересовалась им потому, что назывался он «Не бывает любви несчастливой».
Не бывает любви несчастливой, Не бывает… Не бойтесь попасть В эпицентр сверхмощного взрыва, Что зовут «безнадежная страсть». Если в души врывается пламя, Очищаются души в огне. И за это сухими губами «Благодарствуй!» Шепните Весне.
– Я не хочу, чтобы ты влюблялась, – говорила мне мама. – Любовь приносит одни страдания! Я ее слушала и внутренне сочувствующе улыбалась. Отчасти оттого, что она сильно опоздала со своим пожеланием, отчасти оттого, что жалела ее: бедная, маленькая женщина – она так и не узнала настоящей любви. Как многие, кто предпочел заменить это чувство какими-то другими понятиями, а потом оказалось поздно что-либо менять. Она понимала любовь так же, как Юлия Друнина – как пожар, сжигающий все, не оставляющий на своем пути ничего живого. Но и за это нужно сказать «спасибо»: он осветил жизнь, пусть даже и сжег ее. Я же понимаю ее иначе. Любовь – вода жизни, она дает силы, чтобы жить, и крылья, чтобы творить. Любовь – это не пожар, это солнечный свет. Тяжело было бы жить на земле, если бы за окном было только пасмурное небо и постоянно шел дождь.
Не бывает любви несчастной. Может быть она горькой и трудной, Безответной и безрассудной, Может быть она просто напрасной, Может быть смертельно опасной. Но несчастной любовь не бывает, Даже если она убивает. Тот, кто этого не усвоит – И счастливой любви не стоит.
Я все-таки нашла полный текст этого стихотворения в одном из сборников русской поэзии, и очень удивилась, обнаружив существенные отличия между тем, что было спето, и тем, что написано. Во-первых, стихотворение оказалось длиннее. А во-вторых, его последняя строчка – совсем другая.
Б. Заходер как бы положил на чаши весов две любви – несчастную и счастливую. И первая оказалась тяжелее, весомее, то есть – ценнее…
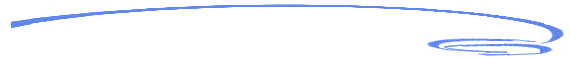
…В который раз возвращается мой корабль в одну и ту же маленькую гавань, и ветер-шалун, играя белым шелком его парусов, будто просит: «Расскажи! Расскажи – и поплывем дальше!». А я и не знаю, с чего начать…
Однажды летом мы с мамой решили навестить родных и поехали на два дня в деревню, где родилась моя мама и где живет ее сестра, моя тетя, ее дети и внуки.
В день нашего приезда на кухне я увидела необыкновенного цвета кошку. Я никогда больше не видела такой расцветки. Она была белая, а волосинки на концах шерсти были желтые. Это выглядело так, как будто на кухне сидело маленькое, пушистое солнце. Звали ее Сулик. Почему так необычно? Потому что, когда ее котенком принесли в дом, то подумали, что это котик, и назвали Шуриком. А когда выяснилось, что это кошечка, переименовывать уже не стали. А тетина внучка, 3-хлетняя Оля, некоторые буквы еще не выговаривала, вот и звала ее – «Сулик». Но имя это в таком звучании невероятно подходило ей: от него, как и от нее, исходил свет.Сулик вела себя странно – я потом поняла почему. Она сторонилась всех и всего. Боялась даже к чему-нибудь прислониться, как будто всякое прикосновение приносило ей боль. Улучив момент, когда все разошлись, она бесшумно, с опаской, спрыгнула с табурета, с видом тоски и безнадежности подошла к нашей сумке, стоящей на полу у двери, понюхала на расстоянии и, заметив, что я наблюдаю, исчезла.
– Не трогай ее, – сказала тетя. – Она дикая, ни к кому не идет. «Вряд ли дикая, – подумала я. – Нелюдимая какая-то». – А она у вас давно? – Да в прошлом году ребятишки принесли…
После ужина, опять же на кухне, вымыв руки и повернувшись, чтобы взять полотенце, я застыла от ужаса при виде следующей картины. По кухне, визжа от удовольствия, туда-сюда бегала Оля. В маленьких ручонках, сжатых в кулачки, она тащила Сулик, держа ее за шерсть, как сумку. Бедная кошка сносила эту пытку молча и обреченно, даже не пытаясь вырваться. Только в ее выпученных глазах стояла невыразимая боль.
– Что же вы смотрите?! – закричала я. – Остановите ее! Ей же больно!
К моему удивлению, никто не откликнулся на мой призыв. Олина мама спокойно мыла посуду, а тетя, всплеснув руками, умиленно наблюдала за тем, как ребенок измывается над животным.
– Сделайте же что-нибудь! – возмутилась я. – Да пускай играет!
Честно признаюсь, я не знала, как быть. Если бы Оля была моей дочерью, я задала бы ей хорошую трепку, а потом доходчиво объяснила, так, чтобы на всю жизнь запомнилось, почему нельзя мучить животных. Какими жестокими стали дети! Какими равнодушными – их родители!
А на другой день, тоже вечером, возвращаясь – не помню: то ли с огорода, то ли из парка, то ли еще откуда-то, – на крыльце я увидела Сулик. Она сидела на ступеньке, напряженно сжавшись в комок. Я протянула руку, чтобы ее погладить. Сулик в ужасе вытаращила глаза и попятилась. Я замерла. Сулик смотрела на меня в ожидании новых истязаний. Очень медленно я опустила руку и погладила ее торчавшую клочьями шерсть. Во многих местах она была выдрана, но со стороны это не было заметно. Теперь Сулик смотрела на меня по-другому: в ее глазах ужас сменился удивлением. Как будто не веря тому, что это происходит с ней, она позволила мне сесть рядом с собой. Боясь причинить ей боль – ведь я понимала, что у нее болит каждый кончик волоска, – я погладила ее снова. Прошло несколько минут. Видимо, наконец поняв, что я не буду ее мучить, она немного расслабилась и, придвинувшись поближе, благодарно заглянула мне в лицо. По ее мордочке катились слезы…
«Господи, – подумала я тогда, – до чего же довели эту бедную кошку, что она забыла, что такое ласка!»…
Теперь никто и не помнит, что была в доме кошка по имени Сулик. Она тогда быстро куда-то исчезла. Столько лет прошло с того времени. У тети выросли внуки, родились правнуки.
Только я почему-то не могу забыть, как мы сидели на крыльце, прижавшись друг к другу, и плакали…
Как жалко, что нельзя подольше остаться в воспоминаниях, как и нельзя в них ничего изменить. Но я покидаю этот берег с немного успокоившимся сердцем, и возвращаюсь на свой корабль, снова вдохнув полной грудью воздух, в котором разлит неповторимый радужный аромат любви к жизни, и ветер странствий снова надул его паруса. Прощай, Сулик, мое маленькое, белое, пушистое воспоминание, так многому научившее меня!..
Мне бы хотелось, чтобы мой город был маленьким. Чтобы забраться на ну, хоть бы какую-нибудь пожарную вышку или крышу самого высокого дома, – и увидеть его как на ладони. Маленькую местность было бы легче любить, проще. Каждая улица, каждый поворот во двор или в переулок знаком, в каждом дворе фонари напоминают о конкретных событиях жизни.
Вот бы вернуться и постоять на балконе нашей старой бабушкиной квартиры на Химкинском, снова с высоты пятого этажа увидеть Речной вокзал на противоположном берегу Москвы-реки.
Летними вечерами, часу в двенадцатом, когда в воде дрожали, отражались зажженные окна теплоходов, я любовалась, впитывая в себя эту романтическую красоту, и пыталась представить, что делается там, на борту, за этими окнами? Наверное, там расселяются по каютам пассажиры, счастливые в предвкушении предстоящего путешествия по реке, куда-нибудь до Астрахани, а может быть, и еще дальше. Как мне хотелось поехать с ними, увидеть новые места, прокатиться на этом большом белом лебеде, с виду таком ослепительном и прекрасном…
Теплоходы. Я провожала и встречала их с балкона, радуясь их возвращению, как будто мы были друзьями. В словах из песни В. Высоцкого для меня есть свой, осязаемый смысл:
Корабли постоят, и ложатся на курс, – Но они возвращаются сквозь непогоду.
И пока они уходили в рейсы и возвращались, в этой закономерности были определенность, безопасность и спокойствие. Ведь пока это так, ничего страшного не может произойти.
Я помню их по именам. И сейчас, увидев кого-нибудь из них, уже усталого, плывущего по реке в очередной привычный рейс, я говорю: «Привет, старый знакомый! Все еще бегаешь?»
Это называется «малая родина». Когда не имеешь возможности охватить взглядом большой город, такой, как Москва, прилепляешься сердцем к какому-нибудь его кусочку – тому, что дорог больше всего на свете, - берегу, от которого лег на курс мой корабль – жизни, творчества, любви…
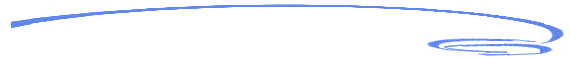
(почти детективная история)
Часть 1: Театр ГИТИСа
Моя приятельница пошла в отпуск, и мы с ней запланировали пойти в театр ГИТИС (театр Государственного Института Театрального Искусства, в котором играют его студенты). Мы его «открыли» для себя несколько лет назад, и нам очень понравилось, как ребята играют - пусть еще нет опыта, но уже есть знания и столько огня, энтузиазма, выкладываются полностью, и пьесы выбирают очень интересные. Приятельница моя, Нина, поехала туда заранее, посмотрела афишу, взяла билеты - мне оставалось лишь встретиться с ней, и по дороге я ее спрашиваю:
- А что за пьеса? На что хоть мы идем-то? Она подумала пару минут и говорит: - Не помню. Но мне название понравилось.
Приехали, подхожу к афише:
- Ух-ты! Это ж «Безымянная звезда». Фильм очень известный есть, Козаков поставил, - ты не помнишь?
- Это где Костолевский и Вертинская? Он разве «Безымянная звезда» называется? Конечно, помню.
- Вот интересно, - говорю я, - как они это сделают? Что мы сейчас увидим?
Программку мы покупать не стали - все равно, мол, никого из актеров не знаем. Театр - маленький, мест на сто, где ни сидишь - в партере, на балконе - все равно сцена близко и хорошо видно. В фойе стоит стенд с фотографиями студентов актерского факультета - их всего человек двадцать, - мы его изучили, пошли сели в партере на свои места. Ожидание чего-то непонятного: предвкушение чуда и в то же время страшно - перед глазами фильм, а что, если у них не получилось до него дотянуться?
Начинается пьеса со сцены на вокзале - начальник вокзала кричит на вечно спящего Якима, чтобы он прогнал с путей гусей и уток. Появляется главный герой - в сером, невзрачном костюмчике, чуть коротковатых брюках, с потертым коричневым портфелем в руке, немного суетливый и застенчивый, но знающий себе цену, совсем молоденький, с кудрявыми длинными русыми волосами, - и я разочарованно думаю про себя: «Это что еще за рыжий пуделёк?! Это - Марин Мирою? Не смешите меня!» Но - произошло чудо: стоило актеру произнести первые три реплики, и я ему поверила. «Да, это - Мирою, - сказала я себе. - А почему, собственно, он не может быть вот таким?»
Необыкновенно трогательно играл этот молодой актер – так, что я не могла удержаться от слез. Он настолько вошел в роль, что даже на поклон вышел не как актер, а как учитель Мирою. Но самое интригующее было то, что мне очень знакомым показалось его лицо. Мы вышли из зала через фойе, и я опять подошла посмотреть фотографии на стенде. Думаю: «Может, мне фамилия его что-то скажет, и я вспомню, где могла его видеть?». Но на стенде его фотографии не было.
Пока еще у Нины отпуск не кончился, она предложила сходить в этот театр еще раз. Говорит: - Там спектакль идет, «Коломба» - очень его хвалят.
В прошлый раз, у афиши, я слышала восторженные отзывы об этом спектакле от тех, кто его уже видел (а туда, кстати, приходят и журналисты, и театральные критики, и актеры, и режиссеры-профессора института). Только я на слух по названию подумала, что это какой-нибудь детектив (оказалось, что Коломба - это имя героини). Согласилась сразу и пригласила еще дочку своей подруги, а Нина - свою соседку. Вобщем, в этот раз мы пошли уже вчетвером. И я очень надеялась, что опять будет играть этот актер, и я наконец вспомню, где его видела.
Мы с Мариной поехали пораньше, купили билеты, погуляли по Тверской, зашли в когда-то мой любимый книжный магазин «Москва». И там задержались, на какое-то мгновение (как нам показалось) забыв о времени. От магазина до театра бежали бегом, опаздывали. Программку покупать уже не было времени.
«Коломба» - спектакль о театральной жизни. Главная героиня - примадонна преклонных лет, своенравная, капризная. Коломба - жена ее старшего сына, она при ее поддержке поступает актрисой в театр, когда ее муж идет служить в армию. Ради карьеры она идет на все. Старую актрису играла молоденькая девушка - так здорово играла, этакая грубая и вальяжная баба с низким голосом, в шубе и гриндерсах. Весьма колоритная фигура. А тот молодой человек играл ее младшего сына, ее любимчика, избалованного, испорченного богемной жизнью. Совсем другая роль, другой, белый, костюм - другие психологические краски.
Ребята играли замечательно. На тот вечер в спектакле участвовали все - и сам театр, и сидящие в нем зрители. Мы с Мариной сидели на балконе - то есть там, где должны работать осветители и стоять осветительные приборы, - и, обращаясь к нам, кричал «директор театра», что мы там что-то плохо делаем, и грозился нас уволить.
Сюжет спектакля мне не понравился, но я получила море удовольствия от игры актеров. Тогда я, что называется, «заболела». Так бывает, когда никак не можешь вспомнить, где мог видеть какого-нибудь человека, и это не дает тебе покоя. Я перебрала в памяти все наши фильмы и сериалы, которые смотрела в последние два-три года (слава Богу, я смотрю их мало), - этого юношу я там не видела. Тогда где? Но это еще не конец истории, потому что я столкнулась с ним еще раз.
В интернете я наткнулась на афишу театра и увидела, что остался последний спектакль сезона перед выпуском - и это опять «Безымянная звезда». Последний шанс разобраться в этом наваждении. Я решила обязательно сходить, и предложила девочкам, которые были у меня в гостях, пойти со мной. Я пригласила их, они пригласили еще кого-то, а те еще кого-то - в итоге наша группа из 20 человек заняла весь балкон.
Мне поручили поехать с Аней, которая всегда везде хронически опаздывает, - надеялись, что хоть я вытащу ее из дома вовремя. Как я ни старалась (а приложила я все усилия, чтобы ее поторопить), но мы все-таки опоздали на пять минут и входили в зал уже в темноте. Из чего следует, что программку я опять не купила. Но сразу же забыла об этом, потому что всем моим вниманием завладел спектакль.
Я смотрела его во второй раз, и видела другой спектакль. Ребята играли и так же, и не так. Чуть-чуть иная интонация в каких-то репликах - и все приобретало другие оттенки красок. К тому же было заметно, что они волнуются, кое-кто пару раз спотыкался на словах (потом на поклон вместе с ними вышел руководитель их курса, и волнение стало понятным, - и еще: ведь это был их последний выход на сцену театра ГИТИСа, как труппы).
Настолько искренне была игра актеров, что зал реагировал на все. Особенно в конце, когда Мона уезжает, и Марин в первую секунду порывается побежать за ней, делает несколько шагов и останавливается перед закрытой дверью. Он стоит две минуты, спиной к зрителям - а весь зал (в том числе и балкон) плачет, некоторые даже навзрыд. А потом он поворачивается, подходит к шкафу, берет книгу и говорит ровным, спокойным голосом: «Со вчерашнего вечера я хотел прочесть эту книгу, и все не было времени». Берет стул, придвигает его к столу, садится, открывает ее и углубляется в свой звездный мир.
Закрылся и снова открылся занавес, актеры вышли на поклон. Исполнителя главной роли зацеловали и задарили цветами. Было видно, что ему приятно, но он старается принимать это как должное. Спектакль закончился, и мы, вытирая слезы, довольные, потянулись к выходу с балкона. Я расстроилась из-за того, что так, наверное, уже и не разгадаю эту неожиданно и странно свалившуюся на меня загадку. И вдруг кто-то из нашей группы спросил:
- А можно мне еще раз программку посмотреть? Я встрепенулась: - Что, у кого-то программка есть? А дайте мне - я хоть посмотрю, кто играл.
Беру программку и читаю: «Действующие лица и исполнители: Марин Мирою - Кирилл Вагнович…» И тут у меня в мозгу как будто что-то щелкнуло, и в памяти замелькали, как стоп-кадры из фильма: Кирюша маленький гуляет с мамой за ручку, Кирюшу провожают в детский сад, Кирюша школьник, Кирюша старшеклассник, «здрасьте - здрасьте», и вот Кирилл - выпускник ГИТИСа… Вагновичи, сколько себя помню, жили в моем доме, в одном из соседних подъездов, я знала их семью. А Кирилла не узнала. Правда, дом наш сломали, мы переехали, и Кирилла я давно не видела, но мне все равно стало ужасно стыдно.
Ошеломленная своим открытием, я вышла из зрительного зала и увидела, как по фойе по направлению к выходу идет Кирилл. Увидев его, мои спутники восхищенно зашептали: «Это он, это он, это он!» Когда мы подходили к тому же выходу, Кирилл возвращался с улицы (по-видимому, он кого-то должен был встретить, но этот кто-то еще не пришел). Он открыл нам дверь и держал ее открытой, пока мы все не вышли. Девочки останавливались и говорили ему восторженные слова.
- Вы меня заставили плакать! – сказала одна. - Вы так здорово играли! Я никогда этого не забуду! – сказала другая. Кто-то воскликнул: - Вы - звезда! Вы нас просто потрясли!
Кирилл усилием воли заставил себя не покраснеть и ответил: - Спасибо большое. Мы старались для вас. - И вдруг обратился ко мне: - Спасибо, что ВЫ пришли. Ну, ВАМ понравилось?
Боже, как неудобно! Он меня узнал, а я полтора месяца вспоминала, где могла его видеть! И он стоит передо мной, с надеждой в глазах, - в невзрачном коричневато-сером костюмчике Марина Мирою, с элегантной и тонкой, как стрела, бардовой розой в руке (кто-то из зрителей подарил), а другой держит дверь. И столько бурных, родственных чувств и мыслей. Восхищение, и гордость, и радость - просто захотелось его обнять и расцеловать, и сказать много хороших слов… Но я удержалась - что подумают мои многочисленные спутники?
- Это было замечательно, - сказала я. - Мне очень, очень понравилось. Спасибо.
И вышла в дверь, краем глаза заметив, как он улыбнулся…
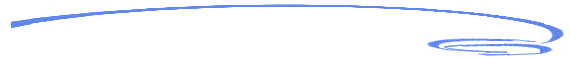
Солнечные блики безымянными звездочками сияют в воде. Маленькие пенные волны набегают на берег моих воспоминаний. Безымянные. Просто волны. Я наблюдаю, как они приносят к моим ногам то бело-синие ракушки, то любовно отполированные камешки, то темно-зеленые водоросли, а иногда томно-белые, как мягкий студень, небольших размеров медузы. Я беру их в ладони, осторожно, щупальцами вверх, чтобы не обжечься. Они беспомощные, когда не в воде, и тают, если долго держать их в руках. Поэтому я как можно скорее опускаю их в море.
Иногда я скучаю по этим безветренным, солнечным дням, когда ничего не происходит, и можно просто посидеть на горячем песке, ни о чем не беспокоясь. Мой корабль отдыхает вместе со мной. К счастью, таких дней в жизни бывает мало. Море все время меняется. Волны, вчера слабые и ласковые, как котята, завтра превращаются в разъяренных львов, раскрывших огромные пасти. Но мои паруса, натягиваясь, становятся прочнее, и уносят корабль туда, где можно переждать шторм. Ведь это корабль воспоминаний.
…1991-й год. Театр «Сатирикон». Увидеть К.Райкина на сцене я даже не мечтала. Но вот удача – у мамы на работе были билеты на известный тогда, а ныне забытый, спектакль «Давай, Артист!». Мы подошли к театру, и я удивилась: ехали в такую даль на метро, на автобусе в Марьину рощу, - а приехали как будто к себе домой. Театр «Сатирикон» - это наша «Балтика», кинотеатр, в котором я выросла, только без названия на фасаде и весь в белых занавесках. Я вспомнила, как долго А.Райкин выбивал для себя и своих актеров хоть какое-то помещение. Наконец, в 1981 году им выделили пустующее здание кинотеатра на окраине Москвы... Зал точно такой же, как у нас, и сцена, только нет экрана, и кресла мягкие, зеленые. Я сразу почувствовала себя дома, хотя и не забыла, что в гостях.
Места у нас были очень близко к сцене, в 3-ем ряду, так что все было прекрасно видно, не говоря уже о слышимости – динамик висел прямо напротив.
Он вышел на середину сцены, к микрофону – маленького роста, во фраке, галстуке-бабочке, как всегда страшненький, но удивительно обаятельный. Я увидела, что он отнюдь не идеально сложен, что у него большие грустные и умные глаза, а волосы – тогда это было неожиданным для меня, - серые, еще не седые, но уже поддающиеся седине. Ведь ему совсем не так много должно быть лет… А впрочем, возраст артиста не поддается подсчетам.
Он начал с рассказа, как принимают экзамены в театральном училище, как он 6 лет «сидел» в приемных комиссиях и пополнял свой актерский багаж наблюдениями за поведением абитуриентов. Оказывается, он очень смешливый человек, и приходилось ему очень трудно.
«Нам смеяться никак нельзя. И чтобы не засмеяться, сидишь, отворачиваешься, рожи разные строишь…»
Он показывал какие-то «экземпляры» поступающих, что-то я уже видела в программе «Вокруг смеха» и еще где-то, а что-то нет. Смеялись, и он, между прочим, с нами вместе.. Он вел себя очень непринужденно, так, как будто мы все его хорошие знакомые и давно друг друга знаем, пришли просто к нему в гости, но – все-таки, хозяин здесь он, и эту черту он провел сразу же, за нее уже никто не может переступить. Он – на сцене, мы – в зале. Четко, ясно, безоговорочно.
Он говорил о заученном тексте. О том, что все, что он сейчас говорит – это заученный текст. Все это он и говорил не один раз, и не раз еще будет говорить. Но, естественно, текст очень большой и он, по тому, какая публика в зале, что-то меняет, что-то выкидывает. Текст заучить не сложно, но:
«Перед тем, как выйти к вам, я каждый раз верю, что я никогда никому этого не говорил и больше никогда никому не скажу». Он заговорил о том, что внимание зрителя зависит от актера на сцене, что есть множество секретов, как удержать это внимание, усилить или ослабить его.
«От каждого из вас протянута тоненькая ниточка ко мне. И я могу сделать так, что вы все сейчас подадитесь вперед или расслабитесь. Это вам кажется, что вы сидите, как хотите. На самом деле это не так. И надо уметь манипулировать всеми этими нитями, держать их в руках. Малейший посторонний звук, или шорох, или кашель может все сломать, и тогда мне придется начинать все сначала.
Самые страшные для нас, актеров, это две вещи. Когда в зале маленький ребенок, которого не с кем было оставить дома, и родители взяли с собой в театр. Но ведь он еще маленький, кругом взрослые люди, дядя там на сцене что-то делает, - ему скучно, ему это неинтересно. И он начинает капризничать, что-то спрашивать… Причем, детский голосок дома, на улице – какой-то само собой разумеющийся и даже незаметный и тихий, в зале – как громкоговоритель. Его слышно в любом углу зала и на сцене тоже. И все сразу поворачиваются в его сторону, начинается какой-то шум: «А что с ним такое?» и т.д. Естественно, та хрупкая сеточка нитей, она сразу обрывается. Я очень люблю маленьких детей, вы не подумайте. Но когда маленький ребенок в зале – это пытка, и я непроизвольно его начинаю ненавидеть.
И еще одна вещь, с которой не может соперничать даже гений, - у нас все артисты это знают и боятся, - это открывающаяся дверь. Вот что бы я тут ни делал, как бы внимательно вы меня ни слушали, открылась дверь – и все сразу, как один, посмотрели туда. И будем смотреть долго-долго, пока она не закроется. Даже если она открылась, и никто не вошел – все будем смотреть и ждать, что кто-то войдет. Актер тут может что угодно делать – одеться, раздеться, хоть стриптиз, - никто на него даже внимания не обратит. Все будут во все глаза смотреть на вошедшего. Посмотрят еще, куда пройдет и сядет этот новенький. И потом еще долго не смогут успокоиться».
Тут я невольно посмотрела на двери. Они были плотно закрыты. Как будто хотели сказать, что в этом театре во время спектакля двери никогда не открываются.
«…Публика бывает разная.
Я больше всего не люблю выступать на курортах – там Крым, Кавказ… Эти отдыхающие – хуже этой публики не бывает. – Он остановился, задумался. – Нет, неправда. Я сказал неправду. Есть публика хуже. Это – партийные работники. Перед ними выступать – это… Когда из кожи вон лезешь, стараешься их как-то расшевелить, рассмешить. А весь зал как одно лицо – застывшее выражение: «Нас не купишь», такое, знаете, каменное, ни тени улыбки. Аплодисменты хлюпенькие, мол: «Ну-ну, давай-давай…» Потом за кулисы приходит человек с цветами, жмет руку: «Спасибо, товарищ Райкин! Смешно, очень. Остро, да!» Смешно, а никто не смеялся. Потом я узнаю, что это, оказывается, был партийный аппарат.
Вот о курортниках. Приезжаешь, солнце палит, театр открытый, без крыши, все обалдевшие от солнца, воздуха и воды, полусонные. Им не до меня. Ну а так как фамилия у меня кассовая, они все-таки приплетаются на меня посмотреть. – Заулыбался: - мне нечего скромничать, фамилия не моя – папина. Вот. Приходят прямо в плавках (мокрых), кое-как ставят себя в сидячее положение, но потом все равно постепенно сползают чуть ли не в проход. Их тоже уже ничего не волнует, они уже как раки вареные, реагируют очень медленно, и на то, над чем вы сейчас хохочете до судорог, они только вяло улыбаются, потому что на это у них уже нет сил совершенно. Они такие вот все… самое смешное, что вы сейчас смеетесь, а поедете отдыхать – такими же будете. – В зале, естественно, смех еще громче. – Ну, а все-таки, лето, море, все загорелые. Я-то приехал - совершенно белый.
Чтоб как-то не выглядеть совсем уж так… Заваливаюсь на пляж минут на десять, думаю: «Все! Ничего не слышу, не вижу», закрываю глаза. Но ничего не слышать я все равно не могу, потому что ухо мое где-то там, само по себе, отдельно. Лежу и слышу, прямо за мной, женский громкий голос: «Щас же выйди из воды!» И детский, капризный: «А папа сказал, что я могу купаться, пока он купается!» - Опять женский, переполненный ненавистью (такую ненависть может вызвать только родной человек): «Я кому сказала, выйди из воды, зар-раза!» - «А папа сказал!..» - «Щас же выходи!» - «А папа сказал!..» Тут я не выдерживаю, поднимаю голову и оборачиваюсь, чтобы посмотреть, правильно ли я их себе представил. Смотрю – верно. Такая, знаете ли, воинственная одесская мамаша, глава семьи, и мальчик лет 9-ти, маменькин сынок, из тех, что всегда что-то жуют. О и в море – с булочкой, и у моря – с булочкой, и в кровати – с пирожным или с конфеткой. Он и плавать не может – стоит в воде просто по пояс. Папа у них где-то за буйками – рыба-кит – ныряет. Вырвался, наконец, на свободу, его и не видно…»
Как он интересно рассказывал о том, как мы, зрители, ведем себя, увлекаясь происходящим на сцене, как забываем следить за серьезным и умным выражением лица, и от этого лица у нас становятся детские, восхищенные, он даже показал – какие.
«А вы думаете, зачем в театре свет выключают? Чтоб вы не стеснялись. И это выражение такое – оно прекрасно. Оно, правда, ненадолго. Включат свет, и вы сразу придадите своим лицам обычное, серьезное, взрослое выражение. А пока свет еще не включен, вы все непосредственные, добрые, как дети. Вы вот себя не видите, а я вас вижу. Оставайтесь такими – хотя бы на эти два часа».